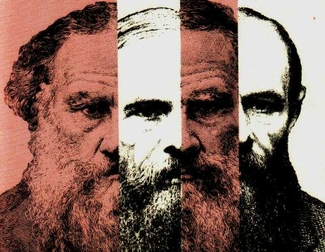Без выхода

(На смерть Алексея Михайловича Варакина)
Идёт, идёт время, отмечая свои смысловые вехи. Вот мы незаметно достигли одной из них. Она связана с известным, в чём-то даже культовым перестроечным фильмом «Город Зеро» (1988 г., режиссёр Карен Шахназаров). Дело в том, что согласно пророчеству, звучащему в фильме из уст странного белобрысого мальчика, главному герою предстояло умереть в 2015 году. И вот этот год настал, с новой силой высветив смыслы этой талантливой ленты. Высветив, в том числе, судьбу и грустную эволюцию самого режиссёра. Высветив саму реальность, в которой мы сейчас оказались. Что с нами случилось за все эти годы?
Когда московский командировочный, инженер Алексей Варакин (Леонид Филатов) ранним туманным утром спустился из вагона на низкий перрон русского провинциального города, он ещё не знал, что ловушка захлопнулась. Не знал, что всё — Москва, жена, прежняя жизнь, всё осталось позади, за кадром, будто в зазеркалье. Известно расхожее выражение, что Москва — не Россия. Так вот: Варакин раз и навсегда приехал в Россию. В контексте фильма Москва выглядит чуть ли не как заграница, причём недостижимая.
Варакин погружается в Россию тотально, будто камешек, упавший на дно. Предутренняя привокзальная площадь, расплывчатые пятна фонарей, спящие многоэтажки, населённые не то реальными людьми, не то двумерными фантомами, вроде персонажей из «Приглашения на казнь» Набокова. Невесть откуда из сумрака возникает такси и увозит Варакина в местную гостиницу.
В ожидании рассвета, не раздеваясь, он лежит в номере на кровати — спать уже бессмысленно, скоро утро, надо сделать дела и вечером ехать обратно, в Москву. Всё рутинно: командировка, местный завод, отсутствие заранее заказанного пропуска на проходной, полинявшие красные лозунги с белыми буквами, истёртые линолеумные коридоры заводоуправления. Варакин прибыл по вполне рациональному вопросу, решение которого — в аккуратной серой папочке с технической документацией. Вдруг в этом рутинном полотне будничного дня с треском возникает прореха абсурда: в приёмной директора завода за своим рабочим столом восседает, расставив соски, голая секретарша, деловито стучащая на машинке. Голая, ну абсолютно. Варакин поначалу автоматически поворачивается и хочет выйти вон — так пытаются проснуться попавшие в кошмарный сон. Но из этой реальности, охватившей Варакина, выйти уже невозможно.
Варакин возвращается в гостиницу подавленный: вопрос так и остался нерешённым, через две недели надо приезжать снова. Он побеседовал с директором завода Пал Палычем (Армен Джигарханян), который сдержанно удивился, узнав, что их предприятие вот уже пятнадцать лет сотрудничает с «Московским металлическим», откуда прибыл Варакин. Не меньшей новостью для невозмутимого Пал Палыча стала и кончина его главного инженера, случившая уже месяцев восемь назад — об этом по ходу разговора сообщает по селектору секретарша. Кстати, в начале аудиенции Варакин пытается обратить внимание директора на необычный вид его сотрудницы — аккуратно приоткрыв кабинета, Пал Палыч смотрит и спокойно соглашается: «Нда, действительно голая». А затем, вернувшись в своё руководящее кресло рядом с трудовым красным знаменем, спокойно и деловито спрашивает Варакина: «На чём мы остановились?».
Варакин, повторяю, слегка подавлен: привычное лицо советского мира то и дело искажает мгновенная судорога бреда. Наш москвич опять лежит одетый на гостиничной койке, и тут из сумеречных раздумий его выводит звонок из Москвы — жена. Варакин пытается уверить её, что у него голос нормальный, что он не заболел, обещает вечером выехать домой. И идёт обедать в гостиничный ресторан «Днепр». Он ещё не знает, что провинциальная мистерия русского абсурда только начинается.
Её сценой становится полупустой зал вполне обычного поздне-советского ресторана. Варакин заказывает официанту рутинный обед («борщ и что-нибудь мясное»). Отобедав, он ждёт чай и счёт. Но, кроме чая, выразительный лысый официант с волевым лицом гангстера (Юрий Шерстнёв) прикатывает на тележке ещё и нечто, прикрытое белой салфеткой. Перед оторопевшим Варакиным появляется цветной торт в виде его же головы, весьма натуралистичный. Далее происходит нечто ритуальное. Официант, смачно всадив вилку в «темя», аккуратно вычленяет ножом часть «лица» с правым «глазом» и кладёт её на тарелку. В этот момент на ресторанной эстраде начинает подниматься занавес, и пред взором Варакина предстают некие музыканты, играющие нечто вроде танго. Варакин, подобно героям Набокова, догадывается, что полотно реальности снова дало трещину, в которую активно вваливается мурло абсурда. «Попробуйте, — между тем настаивает официант, — наш повар специально для вас приготовил, очень вы ему понравились. Вон он из кухни выглядывает». Действительно, из кухни выглядывал кто-то в белом поварском колпаке. «Попробуйте, — продолжает настаивать странный официант, — а то наш повар покончит с собой». У Варакина сдают нервы, он бросает на стол мятую купюру и, не дожидаясь сдачи, устремляется к выходу. И в этот момент гремит выстрел, Варакин оборачивается и видит, как из кухни в зал вываливается повар с громадным револьвером в руке и алым пятном на белой куртке.
Побывав в кабинете у следователя с профессиональным пытливым взглядом (Алексей Жарков), Варакин испытывает только одно, но очень сильное желание: поскорее уехать в Москву. Но не тут-то было: вечером на городском вокзале абсурд вперяется в Варакина старушечьими очками из окошка билетной кассы — билетов на Москву нет. Вокруг — неказистый, пустынный, тусклый город, постепенно просачивающийся в душу командировочного москвича сумерками безнадёжности. Варакин пытается встряхнуться, берёт такси, чтобы добраться до ближайшей станции. Молодой таксист с подчёркнуто среднерусской внешностью везёт его через ночную, типично среднерусскую местность и, в конце концов, машина тормозит на некой развилке: дальше нельзя — «кирпич», пройдите пешком, тут недалеко. Варакин, отпустив такси, некоторое время шагает по асфальту шоссе, которое вдруг резко упирается в непроходимую тёмно-зелёную стену леса. Он растерянно, почти в отчаянии озирается и видит за листвой свет окон. Это, оказывается, местный краеведческий музей, где Варакина встречает пожилой хранитель в интеллигентском берете (Евгений Евстигнеев). Он готов помочь нежданному гостю добраться до города, и звонит «одной даме», некой Анне, нередко выезжающей по вечерам в город на своей машине, с просьбой захватить Варакина. А пока он предлагает москвичу осмотреть музей.
Краеведческий музей — смысловая пуповина фильма. Это удивительная смесь провинциализма, самомнения и дилетантизма — трёх основных, образующих факторов фантасмагорического российского самосознания. Музей представляет собой паноптикум невероятных артефактов и натуралистичных восковых фигур, которые до ужаса «как живые». Начинается экспозиция с... захоронений троянцев, якобы («как неопровержимо доказал профессор Ротенберг») ушедших на север, добравшихся до этих мест и основавших здесь первые поселения. Далее ошалевший Варакин видит восковые фигуры римлян в латах — это, с явным удовольствием поясняет хранитель, 2-я когорта 14-го сдвоенного Марсова легиона, та самая, что бесследно пропала в северных краях по пути из Британии на Кавказ, и чьи останки «были обнаружены» местным энтузиастом от археологии, купцом Бутовым. Здесь режиссёр Шахназаров явно предвосхитил появление всей нынешней патриотической мифологии, ищущей «национальные корни» чуть ли не в античности и даже куда более ранних временах...
Далее, не успевший придти в себя от троянцев и римлян, Варакин видит огромное деревянное ложе, на котором («как неопровержимо доказал профессор Ротенберг») Атилла «надругался над вест-готской королевой на глазах своей орды». Тут же, рядом, стоит восковая фигура Атиллы, чей портретный облик восстановлен местным художником «по методу профессора Герасимова». От Атиллы — непринуждённый переход к паре фигур «первых исполнителей рок-н-ролла» в этом городе: девушка в платье по моде конца 50-х и молодой человек в синей милицейской форме застыли в момент танца. Рядом в обрамлении пульсирующих лампочек висит портрет комсомольского вожака Смородинова, исключившего их из комсомола. Потом снова следует бросок в глубь времён: из стеклянной призмы на Варакина смотрит почерневшая забальзамированная голова Лжедмитрия Второго (подлинная, уверяет хранитель), а рядом — многофигурная восковая композиция, запечатлевшая князя Владимира в момент принятия решения о «введении на Руси христианства» (казалось бы, какое отношение это имеет к провинциальному среднерусскому городу? О «сакральном» значении Крыма и Киева тогда ещё речи не было, но вот, пожалуйста). Князя Владимира сменяют боевики-эсэры, Азеф и любовница Азефа, анархисты, первый стахановец в плавках, похожий на статую Геркулеса, и молодой Сталин с товарищами, как-то остановившийся в этих местах по ходу побега из сибирской ссылки. Тут же и писатель Чугунов на своей даче — местный живой классик, начинавший в молодости как пламенный сталинист, в конце 40-х обвинённый в космополитизме за исторический роман «Кандалы Кюхельбекера», а в 56-м реабилитированный. Тут же и Антонина Петухова — первая гражданка города, задержанная в Москве во время фестиваля молодёжи и студентов 1957 года за связь с иностранцами. В глазах Варакина нарастают смятение и тоска: в его сознании тает грань между восковыми манекенами и реальными обитателями этого города. Апофеозом всего становится монументальная композиция местного скульптора под очаровательным названием «Грёзы»: две вращающиеся многоярусные конструкции, уставленные ряжеными восковыми фигурами. На первой конструкции — герои советского прошлого: шахтёры-ударники, доярки, учёные, чабаны, представители братских народов в национальных костюмах. На второй — герои перестроечного настоящего: рокеры, бандиты, проститутки, мрачные солдаты-афганцы, члены «Памяти» в чёрных футболках с колоколами. Первую конструкцию венчает красная звезда, вторую — точно такая же, но белая. Всё, безумный экскурс по безумной истории наконец-то завершён.
Варакин и хранитель выходят на воздух, в русскую летнюю ночь. Анны всё нет (вспоминается блоковское «Анна, Анна! Тишина»), и хранитель предлагает москвичу переночевать у их электрика, проживающего с семьёй неподалёку. Варакин соглашается, и вот уже он, московский гость, окружённый радушием хозяев, сидит за накрытым столом в семейной обстановке на фоне цветастого ковра. Казалось бы, всё замечательно, привычно, Варакин несколько расслабился, он с удовольствием накладывает себе на тарелку салат, цепляет вилкой нарезанную колбасу, с аппетитом кушает. Хозяин дома, усатый электрик, чем-то напоминающий Валенсу (эдакий несостоявшийся местный Валенса) с оглядкой на жену предлагает ему «по рюмочке» и, несмотря на отказ Варакина, уходит за милым сердцу графинчиком («сам готовил»). Жующий Варакин остаётся наедине с маленьким сыном хозяев, и вот тут-то, в лоне надёжного домашнего уюта, полотно реальности в очередной раз расползается. Мальчик с голубым святым взглядом вдруг объявляет Варакину тоном оракула, что тот никогда не уедет из этого города, он умрёт здесь в 2015 году и будет похоронен на городском кладбище (в год 70-летия победы, заметим; а родился-то Варакин в 1945-ом!). Наш герой теряет не только аппетит, но и дар речи. К счастью, появляются родители и отправляют мальчика спать. Варакину уже не до ужина, он просит уложить его на ночлег, но тут появляется та самая Анна — странная, немного роковая брюнетка в белом на красных «Жигулях».
Они мчатся по ночному шоссе, Варакин несколько успокаивается, у него возникает надежда (Анна, чьё имя на иврите означает «благосклонность», согласилась отвезти его до ближайшей станции), но вскоре их настигает чёрная «Волга» (белый, красный, чёрный — полный набор алхимических цветов): у следствия возникли срочные вопросы к Варакину. Он вновь в кабинете у того же следователя. Оказывается, в бумагах погибшего повара Николаева обнаружено фото Варакина с надписью: «Дорогому отцу от Махмуда». Теперь абсурд смотрит в упор на Варакина с его же собственной фотографии. С несчастного москвича берут подписку о невыезде — безвыходность странного города становится юридическим фактом. Варакин возвращается в ту же самую гостиницу, в тот же самый номер — заколдованный круг замыкается. Но не успевает он снять шляпу и плащ, как раздаётся телефонный звонок — его приглашает к себе прокурор города, машина уже ждёт внизу.
Прокурор (Владимир Меньшов) — это, наверное, один самых интересных, глубоких и даже трагических персонажей фильма. Свою беседу с Варакиным он начинает со странных, опять-таки абсурдных признаний: оказывается он, прокурор города, буквально одержим иррациональным желанием совершить какое-нибудь преступление, из ряда вон выходящий поступок. Абсурд на сей раз облачился в синий прокурорский мундир. Видя, что Варакин от этих откровений впадает в прострацию, прокурор переводит разговор в более рациональное русло. Он мягко, терпеливо объясняет москвичу, что тот, возможно, стал свидетелем не самоубийства, а тонко организованного убийства. В ответ на чеховские заклинания Варакина («Мне в Москву очень надо, в Москву») прокурор прямо говорит столичному гостю, что тот недопонимает всей важности дела повара Николаева: «оно касается интересов государства» (при этих словах Варакин внешне и внутренне подтягивается, подсобирается). Всегда, продолжает прокурор, начиная со времён татаро-монгольского нашествия русский народ жил и вдохновлялся одной идеей — идеей великой, мощной государственности. Эта идея (внимание!) иррациональна, она противоположна западным идейкам с их прагматизмом и пользой. Растворяя в себе индивидуальность — вашу или мою — она взамен даёт чувство причастности к чему-то великому и бессмертному. Запад всегда стремился скомпрометировать идею нашей государственности. Однако главная опасность — в нас самих, поддающихся соблазну рационализма. Но! — многозначительно подчёркивает прокурор — идея нашей государственности непобедима: все революции у нас приводили только к построению ещё более великого и мощного государства. Сейчас, отмечает прокурор, наша государственность переживает один из самых опасных моментов своей истории, и это понимают немногие. И дело Николаева, казалось бы, совершенно пустяшное, в действительности имеет чрезвычайно важное значение.
Прокурор намекает непонятливому Варакину, что Николаев стал «сакральной жертвой» в дьявольской схеме масонского заговора перестройщиков (эта изощрённая конспирология — оборотная сторона абсурда русской жизни, её «тень»). Конечно, как показало время, прокурор сильно переоценивал опасность: тот же рок-н-ролл способен изменить суть России в той же степени, что и немецкие кафтаны при Петре Первом.
«Что я должен делать?», — тоном сознательного патриота спрашивает Варакин под впечатлением услышанного манифеста государственника. «Ничего, —отвечает прокурор, — просто не отрицайте, что вы сын повара Николаева». Будто глотая горькую пилюлю, Варакин соглашается. Он, как и прокурор, как и все другие обитатели города, становится участником бреда, актёром в театре абсурда.
Наутро к Варакину в номер является странная Анна (на сей раз в красном) и после некоторых уговоров («это касается вашего отца, Николаева») отвозит его к писателю Чугунову (Олег Басилашвили). Тот, как и положено, живёт на даче с плетёными креслами, с букетами в вазах на круглых столах, слушает соловьёв, попивает коньячок и борется за перестройку и победу демократии. От Чугунова Варакин узнаёт, что, оказывается, повар Николаев (когда-то — старший лейтенант милиции) и был тем самым первым исполнителем рок-н-ролла в городе: после этого Николаева уволили из милиции и он подался в повара, а его партнёршу Лиду Шулакову отчислили из медучилища (она из-за этого выпила уксус и навсегда потеряла голос). А исключивший их из комсомола секретарь горкома ВЛКСМ Смородинов — это нынешний прокурор города. Свой рассказ Чугунов сопровождает показом уникальной реликтовой плёнки 1957 года, запечатлевшей скандальное выступление, ставшее, по словам писателя, самым громким событием в истории города со времён мятежа левых эсеров. Это очень важное замечание: в абсурдном контексте совка исполнение рок-н-ролла становилось политическим событием, сопоставимым с антисоветским восстанием. Когда историческая запись, наконец, обрывается, на экране появляются сумеречные кадры современного западного порно, на что Чугунов, ничуть не смутившись, шутливо машет рукой и выключает видик. Короче, Варакину необходимо сегодня выступить на открытии городского клуба любителей рок-н-ролла имени повара Николаева — как сыну Николаева. Варакину деваться некуда: надо выступать, он стал сыном Николаева.
Чугунов в фильме — как бы антитезис прокурору Смородинову (но при этом он, как и Смородинов, тоже настаивает, что Варакину сейчас «ну никак нельзя уезжать»). Это тип доморощенного демократа, возможно в чём-то даже национал-демократа. Пройдя чёрт знает через что, он сохранил в себе душевность, живость, кураж и шарм. Выступление Чугунова на открытии клуба любителей рок-н-ролла — это, конечно, один из шедевров Басилашвили. Серый костюм со светлым галстуком, мятущаяся седая шевелюра, высокий рост, напор и натиск — во всём этом гениально предсказан Ельцин. Но главное, Чугунов — это, прежде всего, фигура типичного русско-советского интеллигента, в которой весьма трудно вычислить соотношения искренности, конъюнктурности и поверхностности. Конечно, Шахназаров отлично уловил тип перестройщиков, которые пытались привить совку западные ценности при помощи дотанцовывания того, что Запад давно, ох давно уже оттанцевал.
Чугунов со сцены, украшенной двумя громадными портретами (пионер городского рок-н-ролла в милицейской фуражке и Элвис Пресли), представляет публике «сына повара Николаева» — смущённого Варакина. Тот пытается говорить об «отце» общие фразы: «хороший человек», «повар хороший, я ел», но это народу не интересно, как и сам почивший Николаев. Народ хочет танцевать — она жаждет раскрепощения и свободы. Варакину из зала предлагают станцевать рок-н-ролл, и тот, после некоторого замешательства, начинает его выделывать на сцене вместе с горячей дамой позднесоветкого типа. Через мгновение танцуют все: молодёжь и массивные домохозяйки, полковники советской армии и кооператоры, танцует Анна, танцует секретарша Пал Палыча и сам Пал Палыч, танцуют следователь и электрик из краеведческого музея, лысый официант и сам Чугунов — все, кроме прокурора Смородинова, стоящего у колонны, скрестив на груди руки. Это как бы анти-Чаадаев (как известно, западник Пётр Чаадаев после официального объявления его сумасшедшим всю жизнь простоял на балах у колонны в горделивой байронической позе). Смородинов, напоминающий Чаадаева даже внешне, презирает перестроечное общество, «губящее Россию», и готов бросить ему вызов. Дело ещё и в том, что Смородинов всю жизнь завидовал Николаеву, посмевшему стать «преступником»: даже смерть Николаева выглядит как эпатаж и фронда. Смородинов понимает, что настал его звёздный час — и он бросает вызов толпе. Романтик реакции, он, в отличие от большинства героев перестройки, способен на поступок. Он выходит на эстраду и властным знаком руки останавливает музыку. Он хочет отобрать у Николаева главное — способность на сумасшедший поступок. «Никогда, — произносит Смородинов в притихший зал, указуя на портрет Николаева, — никогда он не смог бы застрелиться. Вот смотрите, как это делается».
Смородинов извлекает служебный пистолет, подносит его к виску и спускает курок — но выстрела нет. Пистолет заряжен, но не работает. Прокурор, нажимая на спусковой крючок, щёлкает и щёлкает — бесполезно. Такое же ощущение возникает во сне, когда ствол твоего ружья, направленный против некоего чудовища, вдруг сгибается, как резиновый шланг. Кажется, будто пистолет сейчас начнёт стекать с руки прокурора, как часы на известном полотне Сальвадора Дали. Абсурд русской жизни настиг прокурора даже в героическом поступке. Смородинов, чуть ли не в слезах, в отчаянии потрясая пистолетом, покидает собрание, которое тут же возобновляет всеобщий рок-н-ролл. Смородинов посрамлён. Правда, надо заметить, что в мире Города Зеро и кровавое пятно на белой поварской кутке Николаева воспринимается как клюквенный сок...
Вечер закончен, Варакин вернулся в свой гостиничный номер, уже, похоже, ставший его домом. Он стоит у окна, глядя на проползающий трамвай допотопной модели, и в этот момент в дверь стучат — к нему пришла та самая безголосая Лида Шулякова, когда-то танцевавшая с Николаевым. Её сопровождает юный сын, чем-то напоминающий стилягу 50-х. Варакин предлагает им присесть и приготавливается слушать. Лида общается с Варакиным при помощи записок, которые озвучивает сын. Это, наверное, одна из самых пронзительных и человечных сцен в фильме: перед Варакиным та стремительная и дерзкая девчонка, посмевшая стать соратницей Николаева в том мятежном танце. Та, которую безвыходная жизнь превратила в безголосую грузную советскую тётю. Она принесла в дар Варакину свои реликвии: вещи Николаева — стиляжий портсигар и портрет Хемингуэя. И Варакин, как «сын Николаева», вынужден их принять. Но на этом его испытания не заканчиваются. Лида хочет ненадолго вернуть себе молодость: усмотрев в Варакине сходство с Николаевым и верность «идеалам» своей молодости, она просит его станцевать с нею (тут её сын включает на магнитофоне запись рок-н-ролла, которая приобретает уже несколько религиозно-культовое звучание). Варакин в растерянности стоит перед Лидой, на лицо которой постепенно ложится печать разочарования. Ситуация опять абсурдна: отяжелевшая, облачённая в пальто и нелепую шляпку стареющая женщина, желающая вспомнить молодость, перед нею — заезжий москвич, тяготящийся своим ложным, фальшивым положением. Но тут появляется спасители: Чугунов и солидный председатель горисполкома с депутатским значком на лацкане (Пётр Щербаков). Он с почтением здоровается с Варакиным, благодарит его за приезд — тот явно становится знаковой фигурой общегородского масштаба.
Далее следует одна из самых длительных и изысканных групповых сцен в нашем кино. Номер Варакина постепенно наполняется всё новыми фигурами. Входит прокурор, уже успевший переодеться в неофициальный и даже чуть богемный жёлтый пиджак. Затем появляется директор завода Пал Палыч в тёмном пальто и шляпе. Таким образом, собирается вся городская элита, с современной точки зрения не хватает только местного архиерея (но это не за горами: как раз-то в 1988-м широко отмечалось Тысячелетие крещения Руси). С подачи Пал Палыча из номера по соседству приходят три девушки с гитарами, кастрюлей варёных пельменей и пивом, которое директор завода наливает только председателю горисполкома и себе. «За прогресс!», — объявляет тост председатель горисполкома (очевидно, понимая под прогрессом «реабилитацию рока энд ролла»), на что прокурор решительно возражает (хоть ему, впрочем, и не наливали): «Я за это пить не буду». Возникает идея попеть, но попытка прокурора исполнить «Соколовский хор у Яра» с многозначительным припевом «Всюду деньги, деньги, деньги...» захлёбывается. Между тем появляются экспедиторы из Киева, зашедшие «на огонёк» (поразительно: возникает как бы туманный призрак будущего «украинского вопроса»). Председатель горисполкома с почтением спрашивает Варакина, какую тот хотел бы услышать песню. После паузы наш москвич, явно утомлённый и всё более погружающийся в безнадёжность, тихо начинает: «Ночь светла, над рекой тихо светит луна, и блестит серебром голубая волна...». Девушки с гитарами подхватывают, все поют, царит типично русская «душевная» обстановка. Вообще, надо сказать, этот романс — щемящая, гениально найденная музыкальная интонация всего фильма (впервые он тихонько, грустно возникает ещё в краеведческом музее, когда хранитель рассказывает о первом председателе городского ревкома, неком Звереве, похожем на уличного хулигана — участнике «ликвидации императорской семьи и, впоследствии, «ударнике Беломорканала»). Но песня опять не заладилась, и находчивый Чугунов предлагает честной компании сходить «к Дубу». Дуб — это главная местная достопримечательность, под ним, говорят, сидели, думу думая, ещё Димитрий Донской и Иван Грозный.
Вереница людей, возглавляемая предгорисполкома, идущим под руку с одной из «гитарных» девиц, идёт через ночной, туманный лес и выходят на поляну, где высится даже не Дуб, а исполинский, безлиственный скелет Дуба. Это великое древо без смысла (ибо без листьев), иррациональное древо российской империи. Назвать его «древом жизни» язык не поворачивается. Девушка, с которой пришёл предгорисполкома, пользуясь своим положением, просит на память веточку исторического Дуба. Председатель милостиво разрешает, и писатель Чугунов (ох уж эта «пятая колонна»!) тянет за сучок — и тут с треском обваливается целая огромная ветвь. «Совсем сгнил», — как-то уж слишком по-«бандеровски» констатирует гость из Киева. «Потому что поливать надо», — холодно-философски замечает Пал Палыч. По такому случаю предгорисполкома разрешает обзавестись сувенирными веточками всем присутствующим. Все скопом набрасываются на огромный лежащий сук, в стороне стоят только грустный Варакин и прокурор. Смородинов решает, что настало время и Варакину совершить из ряда вон выходящий поступок, он даже готов помочь в этом москвичу. «Бегите», — говорит прокурор Варакину. «Что?» — переспрашивает тот. «Бегите», — повторяет Смородинов. Как ни странно, именно он некой частью разума понимает, что ОТСЮДА надо бежать. «Куда?», — машинально спрашивает Варакин, и, не получив ответа (да кто ж его знает, куда?) устремляется через ночной лес. Побег заведомо бессмыслен и абсурден: ведь Варакин без документов, под подпиской о невыезде. Он бежит наугад, напролом, и на рассвете, когда чащу уже пронизывают розовые лучи рассвета, выходит к озеру. Там он обнаруживает лодку без вёсел, вскакивает в неё, оттолкнувшись ногой от берега. Лодку постепенно выносит на середину озера, где она замирает на глади вод. Последний кадр фильма — заострившееся, омертвелое от осознания безвыходности лицо Алексея Варакина, чем-то напоминающее посмертную маску Гоголя.
Теперь, в 2015 году, нам понятно, что Варакин, конечно, никуда не уплыл. Москву и жену он так и не увидел. Наверняка его лодку прибило к берегу Города Зеро, Безысходска. Конечно, он умер в том городе, войдя в местные анналы сыном повара Николаева, так и не разорвав вечный заколдованный круг. Как не разорвали его и все те, кто надеялся на лучшее в годы перестройки. Шахназаров гениально предсказал крах перестройки и последующую реакцию. Кошмарный безлиственный дуб, увы, не сгнил. Прокурор Смородинов оказался полностью прав насчёт абсолютной, рептильной живучести «русской идеи», идеи «великой иррациональной государственности». Мы видим, как она вернулась, воскресла, сделав своими врагами тех самых экспедиторов из Киева, а к ним в придачу и весь Запад. Да, Смородинов прав: та наивная прививка свободы, которую пытался сделать России писатель Чугунов, не получилась. Как показал опыт нашей истории с 1988-го по 2015 год, рациональные «западные идейки» в принципе не монтируются с иррациональной природой государства российского. Россия — это корка, под которой клокочет вечный абсурд. Иллюзии конца 80-х улетучились, будто тургеневский дым, вместе с их носителями. Искромётного писателя Чугунова, как и многих других «звёзд» перестройки, наверняка прочно забыли в нулевые.
Но и прокурор Смородинов, хоть он и выступает в фильме чуть ли не как провозвестник Путина, вряд ли нашёл себе место в эпоху «вставания с колен». Ибо Смородинов как функционер для нашей эпохи слишком порядочен, слишком неуправляем, ведь он даже способен застрелиться, что сейчас совсем уж немодно. Можно представить себе Смородинова в качестве нынешнего врага Украины. Но невозможно представить себе Смородинова в роли коррупционера и «крышевателя». Или просто холуя.
Но самое интересное и грустное — изменился автор фильма, режиссёр Шахназаров. Он стал таким ура-патриотом, таким государственником и конформистом, что, в отличие от своего героя Смородинова, уже вряд ли шепнёт нам с вами при случае: «Бегите».
Итак, 1988-2015. Вечная российская матрица не преодолена, она восстановлена — но нет, не в «ещё большем величии», а в ещё большей гнусности. В 1988-м начало попыток найти выход было ознаменовано появлением пессимистического кинопророчества Шахназарова. А 2015-й, год смерти шахназаровского героя, выхода так и не нашедшего, обозначен фильмом Андрея Звягинцева «Левиафан». Чтобы осознать, куда же мы пришли, достаточно сравнить председателя горисполкома в исполнении Петра Щербакова с мэром-бандитом в исполнении Романа Мадянова. Чувствуете разницу? Она во всём. Источником смыслов в «Левиафане» является уже не музей, пусть и фантасмагорический, а новенькая, гулкая церковь, возведённая на месте снесённого дома, разрушенной семьи, уничтоженных жизней. И если образ безысходности в «Городе Зеро» — поэтическая лодка без вёсел и летнее озеро, то в «Левиафане» мы видим вечное холодное море, омывающее вечные холодные скалы: вечный, неизменный, холодный порядок вещей, отстранённый от всего человеческого. В отличие от мира «Города Зеро» в мире «Левиафана» уже нечего ЛЮБИТЬ. Конечно, между этими двумя фильмами есть несомненная и очень мрачная смысловая связь. Вполне вероятно, что Звягинцев сознательно ввёл в свой фильм явную цитату: кадр прибытия поезда, на котором приезжает в северную Териберку московский адвокат, композиционно в точности повторяет первые кадры «Города Зеро», когда инженер Алексей Варакин спускается из вагона на низкий предутренний перрон...