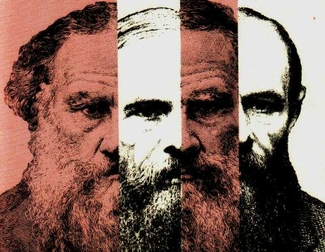Лето Высоцкого

Я не помню, жарким оно было или нет. После выездов на зимние стрельбища солдату летом всегда тепло. Я тогда был в армии, служил рядовым срочную в Москве, в Лефортово, в «артели» полковых клубных художников. Помню только три главных слагаемых того лета: Польша, Олимпиада и Высоцкий.
Польша дышала нам в лицо своей революцией: 8-го июля начались первые забастовки в Люблине. Я уже начинал баловаться политической публицистикой, и набросал об этом статью диссидентского толка — тайно, «для себя», разумеется. Называлась она «Польское зарево» и написана была карандашом на тетрадных листах в клетку. Молодой автор проводил дерзкие параллели с польскими антиколониальными восстаниями 18-19-го столетий и даже поднялся до критики самого Пушкина за его имперскую позицию. Воодушевлённый, показал текст однополчанину Гиве Потикяну, художнику-москвичу. Гива прочёл, одобрил содержание и качество и немедленно посоветовал статью уничтожить: держать при себе такое в советской армии — полное безумие. Мне было жалко. «Лёша, сожги!», — с напором убеждал он меня, дурака, усиленно гипнотизируя красивыми армянскими глазами. Я, к счастью, так и поступил. Гива меня ценил, он считал, что такие люди, как я рождаются раз в десятилетие.
А Олимпиада — она осталась в памяти новыми советскими спортивными песнями в стиле диско, невероятно вкусной, как казалось, «фантой», которую приносили из увольнений, и брезентовыми подсумками с четырьмя автоматными рожками — их мы стали постоянно носить на своих солдатских ремнях на случай тревоги, для пущей быстроты сборов. Это называлось Усиление. Оно началось с того, что однажды перед показом фильма в полковом клубе на сцене появился насупленный, как памятник, командир полка и каменным голосом, будто о войне, объявил: «Сегодня в Москву прибыл олимпийский огонь. Полк переходит на повышенную боевую готовность. Вы должны выполнить любой приказ. Любой приказ», — повторил он дважды. В клубе явственно сгустилась атмосфера и нависла тягостная тишина. Кинопросмотр был испорчен.
На полковом плацу появились БТРы и даже дежурные полевые кухни. Время от времени то одну, то другую роту поднимали по тревоге: из окон нашей своеобразной клубной «шарашки» (она и в самом деле напоминала «шарашку» из «В круге первом» Солженицына) мы наблюдали, как солдаты в полном снаряжении, в касках и с автоматами выбегали на плац. «Избранные» вдвоём волокли большие продолговатые ящики. Одни были доверху наполнены резиновыми дубинками, другие — стальными наручниками. Дубинки и наручники произвели на меня громадное впечатление. Я, уже имевший некоторый антисоветский опыт по части общения с хиппи, лишний раз понял, какова цена единству советской власти и советского народа. Я наглядно увидел, насколько эта власть народна, каков её страх перед собственным населением. Ещё можно было как-то объяснить повышенную боеготовность: опасность со стороны гипотетических террористов, диверсантов, якобы замышлявших сорвать всемирный праздник спорта. Но дубинки и наручники — это же явно против толпы, против своих. Вот что значили командирские слова: «Любой приказ». То есть при случае и стрелять? А что, ведь был же уже Новочеркасск. Нам могли запросто приказать стрелять в москвичей, я осознал это всей шкурой.
Ежедневное зрелище дубинок и наручников дополняли или, лучше сказать оттеняли, песни Высоцкого, которые мы, москвичи-вольнодумцы, некий кружок, образовавшийся на базе нашей клубной «шарашки» (Володя Аносов, Алик Оганджанян, Витя Юрченков, Гива Потикян — помню вас!), регулярно, подпольно слушали вечерами. «Банька» тогда звучала просто потрясающе, как откровение Божье. Всем нам уже тогда было понятно, что Высоцкий — великий русский поэт, с мощнейшими корнями в Серебряном веке и 20-х годах, с сильнейшей техникой стиха, изысканными и смачными рифмами, удивительно музыкальной строкой, с каким-то природно-шаманским чувством ритма, который пёр из самого Богом данного хлопушинского темперамента. Поэт изысканный и при этом народный: взять хотя бы его «Очи чёрные. Погоня»: «Штофу горло скручу, бью кручёные, и опять кричу: очи чёрные!!» — по сути, новая народная песня, романс, сделанный, как гравировка на серебре. Поэт утончённо-массовый, я бы сказал. С кем его сравнить по народности и масштабам славы? Только с Есениным. Только у Есенина, по признанию современников, прижизненная слава была оглушительной. Точно такая же слава была у Высоцкого (и во многом схожее экзистенциальное переживание). И больше ни у кого. Его знали все: интеллектуалы и алкаши (впрочем, это порой тогда отлично и плодотворно сочеталось). Поэт эпохи, вобравший в себя культуру русской поэзии, его голосом заговорили пропитые советские пятиэтажки, их Зины и Вани. Как и в Есенине, народ всецело признал в Высоцком своего, нашего. Когда я потом, тем же летом, написал статью на смерть Высоцкого, я назвал её «Я — ваш поэт». Это строка из раннего, мессианского Маяковского. Но именно Высоцкий мог бы произнести её по полному праву.
И вот что ещё мы понимали всем нутром: Высоцкий — это именно русский бунт против совка, против казённо-государственного вообще. Поэтическая пугачёвщина, страсть к воле (отсюда — столь мощное вхождение Высоцкого в органику монолога Хлопуши).
Лето шло, Олимпиада гремела-продолжалась, в «Правде» то и дело мелькали тревожно-осуждающие сообщения о Польше . И вот наступил день, точнее вечер, когда я, сидя в нашей худмастерской (почему-то в полном одиночестве) слушал, как за дверью, подобно железнодорожным составам, перекатывается топот рот, валивших на просмотр вечернего киносеанса. И вот тут-то старательно, втайне ловимый мною «Голос Америки» с трудом, с хрипами и перебоями, в каких-то конвульсиях сообщил мне, что в Москве в результате сердечного приступа умер Владимир Высоцкий. Польшу и Олимпиаду сразу же затмило, занавесило этой вестью. Остался один Высоцкий. Это лето осталось трагическим летом Высоцкого. Его вечное лето. На долгие, долгие лета.
Спустя день пришёл, кажется, Гива Потикян и показал штатный советский газетный некролог, размером со спичечный коробок.
Нет, за бетонным армейским забором мы, конечно, не могли видеть тот мощный выплеск народного моря, который затопил Таганскую площадь (кстати, кого сейчас ТАК будут хоронить? И похоронить-то ВОТ ТАК сейчас некого, просто нету такого калибра людей). Так Россия хоронила Достоевского и Толстого. Я не накручиваю, я только констатирую. О тех апокалиптических похоронах, об их пронзительных деталях (стена Таганки, заклеенная, как прокламациями, белыми квадратами стихов, чёрный гитарный гриф у дверей, белый гроб, белый лоб) мы узнали чуть позже, из того же запретного и нужного, как родник, «Голоса Америки». Лишь потом я осознал, что на Таганке народ прощался не только «с Володей», а с самой эпохой поэзии — с временами, идущими от Серебряного века, с эпохой, когда голос поэта звучал как откровение, звучал массово, всенародно, соборно, требовал трибун и стадионов. Вместе с Высоцким закончилось лучшее время и для его «старших братьев», как они себя позиционировали: для Вознесенского, Евтушенко, Ахмадулиной. Закончилось время поэзии и её великого значения. Закончилось время великой потребности народа в поэзии. Наверное, её мог утолить только запойный, харкающий кровавыми окалинами Высоцкий. «Меньшой брат», как назвал его любимый мной Андрей Вознесенский. Хотя в целом он написал, конечно, здорово: «Писцы останутся писцами в бумагах тленных и мелованных. Певцы останутся певцами в народном вздохе миллионном...».
Ну что я мог, как почтить? Нацарапал для себя ещё одну карандашную статью, ту самую, «Я — ваш поэт». Увы, советы Гивы Потикяна пропали даром. Как-то прихожу из полковой столовой в клуб, мне друзья сообщают: был шмон. Нас, полковых клубников, курировал непосредственно замполит полка, майор. Он давал или не давал нам благословенные увольнения в такую близкую, но зазаборную Москву. Как и всякий разумный человек (впрочем, как и вся советская власть), майор понимал, что мы, художники, самоотверженно, часто аврально, на износ, ночами пишущие многометровые красные лозунги, не можем верить в их тупое содержание. И вот он как-то решил проверить нашу худмастерскую на благонадёжность: клубников всегда подозревали в хранении всякого такого недозволенного. И что же — шаря по полкам (а там можно было найти и машинописный «Иконостас» Леонида Губанова, и Северянина, и даже статью Троцкого на смерть Есенина), он наткнулся на беспечно оставленные мною мои писули. На ту самую статью о Высоцком. И унёс её, аки демон, к себе в штаб. Что делать? Текст-то явно «с душком». Друзья посоветовали мне немедленно пойти к замполиту и попросить вернуть бумаги. Ну что, подтянул ремешок и с замиранием сердца пошёл. Помню, иду через солнечный плац и думаю: успел он прочесть или нет? Захожу по всей форме, козыряю, так и так, товарищ майор, не могли бы вы отдать... И тот отдал, представьте. Всё-таки к нам, клубникам, художникам было некое особое отношение: ну типа интеллигенция. Только посмотрел на меня и сказал: «Сожги ты эту хуйню».
Я так и сделал. Опять. Хороший был у нас майор.