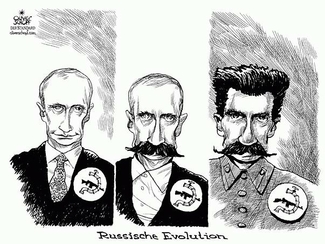Послефутбольные немцы

Хотя футбольный чемпионат, выигранный немцами, оказался в плотной тени Украины, о немцах, как нации, имеющей специфическую репутацию, футбол тоже напомнил. Немцев, как выяснилось, не простили, сколько бы они не каялись и не клялись, что навсегда изменились, им, очевидно, будут долго еще припоминать дела давно минувшие — шутливо, но с подтекстом: а мячик приятнее гонять, чем заключенных по плацу?
И это понятно, свой страх люди помнят долго, вязкий исторический страх собственного (или предков) унижения. Страх живуч, как генетическая эстафета, он реален, зернист, плохо растворяется во времени, унизителен: немцы слишком многих заставили думать о себе хуже, чем им хотелось.
У меня своя немецкая память.
Моя мама пятнадцатилетней девочкой пережила немецкую оккупацию и расстрел почти всех своих (наших, моих) родственников в Кисловодске (но это было за десять лет до моего рождения, и никого из них я не видел, кроме как на мутной фотографии); но парадоксальным образом сохранила о немцах живые, в том числе вполне комплиментарные воспоминания. Может, потому что память — цензор, репрессирующий все неприятное и колющее и оставляющий только лестное и ненужное? Может, это тень от стокгольмского синдрома, хотя вряд ли: скорее весна, беспокойная юность, половое созревание, прощание с детством, близкий конец войны.
Об одном таком сюжете мама напомнила мне в день финального футбольного матча, когда я навещал их с отцом, и она (в очередной раз) рассказала, как за ней, пока они с матерью (моей бабушкой) и братом по поддельным документам жили в станице Тбилисской, очень настойчиво ухаживал рыжий немецкий солдат Петер. Кадр первый: банальный. Моя бабушка просит Петера зарезать обмененную на шерстяную кофточку, купленную еще в Ростове, курицу хозяйки, а тот наотрез отказывается: что вы, фрау, я не могу. Петер, почему? Я боюсь. Людей убивать не боишься, — моя бабушка могла быть невыносимой от презрения: курицу боишься! Петер — говорит он возмущенно, для создания дистанции переходя на третье лицо, — никого не убивал, Петер — шофер. Гордость на втором слоге.
В другой раз рыжий шофер Петер, набивая цену, решил показать, каким спросом он пользуется у женского пола, и разложил на ступеньках крыльца пасьянс из девяти разнокалиберных фотографий немецких девушек, одаривших его вниманием. Петер, изумляется бабушка, которой тогда всего 35, так ведь они почти все — красавицы, зачем тебе моя дочь? Это — девушки для легкомысленного, жениться надо на другой, на серьезной! Лесть, как способ добиться своего, тем более действенна, чем более она ожидаема.
И последняя история: когда однажды ухаживания Петера зашли слишком далеко, слева пахло прелой степью, из трубы шел жирный дым, сидели на мокрой балке, моя мама не нашла ничего лучше, чем сказать кавалеру, лезущему со слюнями: Петер, а ты знаешь: я — еврейка! Петер, естественно, не поверил: в комендатуру, по крайней мере, он не донес.
А вот хозяйка, у которой они снимали комнату, в гестапо свои подозрения донесла, о чем мои родные узнали на следующий день после ухода немцев. Немецкая бюрократия решила обернуться к моим родным своим спасительным и редким разгильдяйством: их внесли в список на послезавтра. Или у бегства никогда не хватает времени?
...Когда я уезжал, мои родители собирались смотреть финальный матч: я буду болеть за немцев, предсказуемо сказала мне мама, я покивал в ответ.